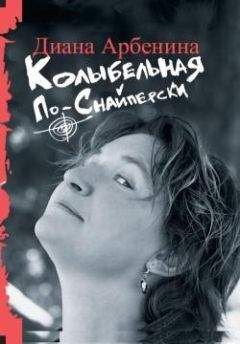Татьяна Шеметова - Пушкин в русской литературе ХХ века. От Ахматовой до Бродского
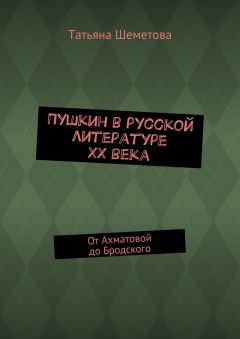
Помощь проекту
Пушкин в русской литературе ХХ века. От Ахматовой до Бродского читать книгу онлайн
Уравновешивает эти позиции, уходя от библейского и революционного идеологизма, мнение Л. М. Лотман: «сюжет о поэте подымался до уровня идеи предназначения человека, наделенного своим даром свыше, и ответственности его перед своим дарованием. Так идея библейского образа входила как составная часть в структуру мысли Пушкина, создавая „второй план“ поэтического текста»136.
Компонентом этой мифологемы является представление о поэте как о проводнике «божественного глагола», которое имеет глубоко архаическую природу. Вместе с тем это представление о поэте неоднократно демифологизируется самим поэтом, например, в «Путешествии в Арзрум», когда паша, сравнивая поэта с дервишем, поклонился ему, а затем герой увидел и самого «благословенного»: «Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre) за плечами. Он кричал во всё горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали» (VI, 468).
Некритичное восприятие мифологемы в ХХ в. вызывает необоснованное чувство причастности, «присвоения» Пушкина как духовного авторитета, ведущее к представлению об элитарности тех, кто посвящен в законы и принципы действия его поэзии. Возможно, отсюда берет начало «охранительное» стремление пушкинистов оградить поэта от посягательств демифологизаторов, которое привело современную науку к кризису, что отмечается признанными специалистами в этой области137.
Элитарность как причастность к некоей касте «неприкасаемых» может быть осмеяна – на уровне анекдотов Хармса, одним из первых почувствовавших и использовавших двойственную природу пушкинского мифа. Но большей частью причастность к возвышенной пушкинской мифологеме пророка формирует чувство превосходства над теми, кто непричастен к данной сфере функционирования пушкинского мифа (ср. историю публикации «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца и последующие «суды» над автором, А. Д. Синявским).
Мифологема поэта как пророка из одноименного стихотворения Пушкина является одним их наиболее продуктивных сюжетообразующих элементов в литературе ХХ в. Если воспользоваться приемом генеративной поэтики А. Жолковского, ее можно рассматривать как некий «кластер» для последующих художественных текстов. Ученый пишет: «Структуру такого текста можно представлять как сильную интертекстуальную призму – как пучок, cluster, тематических и формальных характеристик, обладающих мощной способностью к самовоспроизводству во множестве более поздних текстов»138.
Сюжет данного отрезка пушкинского мифа – встреча человека и высшего существа (ангела), через посредство которого человек (как правило, лирический герой) обретает сверхъестественные способности: зрения («отверзлись вещие зеницы») и слуха («и внял я неба содроганье и горний ангелов полет, / и гад морских подводный ход,/ и дольней лозы прозябанье»), а также обретает «божественный глагол» – сверхзначимое слово. Все это окупается первоначальной немотой («уста замершие мои»), претерпеванием героем физических мучений («сердце пламенное вынул/ и угль, пылающий огнем, / во грудь отверстую водвинул») на грани жизни и смерти («как труп в пустыне я лежал»).
Неизбежность пророческой задачи общения с миром как «посвященных», «оглашенных» (ср. название трилогии А. Битова «Оглашенные» – о людях, слышавших об истине, но еще не принявших ее), так и абсолютно чуждых поэзии людей, по-разному осознается писателями ХХ в. Многим из них (преимущественно поэтам) свойственно соотносить свое призвание с мифологемой пророка.
Мифологемы-акции (Я вас любил, Я памятник себе воздвиг, дуэль, Вновь я посетил)
Я вас любил (утаенная любовь). Сюжет о высоком, но болезненном, неразделенном чувстве, которое поэт пронес через всю жизнь. Существует также точка зрения, согласно которой легенда об утаённой любви Пушкина представляет собой вымысел (см. вышеупомянутую пушкинскую биографию Ю. Лотмана). Споры известных пушкинистов о том, кто является объектом скрытой страсти поэта: М. Раевская, Е. Воронцова, К. Собаньская, Е. Карамзина – привели к формированию устойчивой мифологемы, активно разрабатывавшейся поэтами ХХ столетия от И. Бунина до И. Бродского139. Одним из компонентов этой мифологемы благодаря коннотации «неразделенности» с некоторыми оговорками можно считать образ жены Пушкина Натальи Николаевны (Натали)140. Ее образ отталкивается в своем развитии и дальнейшем бытовании от стихотворения Пушкина «Мадонна», восходящего к полотнам Рафаэля, Перуджино. Он является неотъемлемой частью пушкинского мифа и компонентом эволюционирующей с годами мифологемы утаенной любви. Важным звеном мифологемы являются письма Пушкина к жене и другим адресатам, в частности, в шутливом письме В. Вяземской – наименование Натали (тогда еще предполагаемой невесты) своей «сто тринадцатой любовью» (Х, 316).
Попытки решения загадки утаенной любви поэта предпринимались свыше ста лет биографами и исследователями. Зарождение этой мифологемы связано с пионерской работой М. Гершензона «Северная любовь Пушкина» (1908), в которой выражена следующая мысль: «Пушкин необыкновенно правдив, в самом элементарном смысле этого слова; каждый его личный стих заключает в себе автобиографическое признание совершенно личного свойства – надо только пристально читать эти стихи и верить Пушкину»141.
Эта гипотеза противоречит самой сути художественного творчества, отличием которого от исторических произведений со времен «Поэтики» Аристотеля считалось присутствие вымысла. Тыняновская теория о лирическом герое в свою очередь выдвигает мысль о наличии в лирике образа поэта, выражающего его мысли и чувства, но не сводимого к его житейской личности142.
С другой стороны, своеобразное представление Гершензона о «необыкновенной пушкинской правдивости» парадоксально сближает ее с феноменом новейшей литературы – жанром «нон-фикшн», в котором доля вымысла стремится к нулю, заменяясь авторским сознанием и восприятием действительности. В контексте нашей работы то, что имеет в виду М. Гершензон под «автобиографическим признанием», мы назвали пушкинским автомифом, или по слову В. Непомнящего, «личным мифом» поэта143.
Обзор многочисленных версий содержится в статье Р. Иезуитовой, предваряющей сборник «Утаенная любовь Пушкина»144, где собраны основные работы, посвященные данной проблеме. Общая особенность, присущая многим таким работам, это поиск конкретного прототипа – женщины, которую долго и безответно любил Пушкин.
Дуэль. Причины последней дуэли Пушкина, образы ее участников, общая расстановка сил многообразно отразились в литературе ХХ столетия. Многие аспекты этого события стали важнейшим импульсом философской критики ХХ в., легли в основу статей В. Соловьева, Д. Мережковского, В. Розанова, М. Гершензона и других. В дальнейшем эта рефлексия отразилась в ряде художественных текстов, приобретая характер по-разному осмысляемой мифологемы. Ср. строки из стихотворения Е. Евтушенко: «Поэты в России рождаются / С дантесовой пулей в груди»145.
Если проследить этапы формирования мифологемы дуэли как существенного элемента пушкинского мифа, можно отметить, что эта тема актуальна как для личного мифа Пушкина, для которого последняя дуэль была как минимум двадцать первым случаем вызова на поединок146, так и для его художественного творчества (данная тема затрагивается в «Евгении Онегине», «Выстреле», «Каменным госте», «Капитанской дочке» и др.).
Данная мифологема в ХХ в. функционирует с преобладанием уничижительного отношения к роковому чужаку, заданного в хрестоматийном стихотворении М. Лермонтова «Смерть поэта», ставшем ее отправной точкой. Редкое исключение из подобной трактовки – роман-хроника Л. Гроссмана «Записки д'Аршиака», в котором предпринята попытка увидеть ситуацию дуэли глазами секунданта Дантеса.
Частью дуэльной мифологемы являются различные трактовки роли Пушкина в дуэли. Гневная лермонтовская отповедь светским толкам в защиту Дантеса спровоцировала целую литературу. Антитезой образу «невольника чести» являются те версии пушкинской дуэли, в которых он представлен не «мячиком предрассуждений», а человеком, задумавшим и осуществившим акт своей смерти самостоятельно147.
Интересна также «серединная» позиция, согласно которой, Пушкин был одинаково равнодушен как к вопросам светской «чести», так и к вопросу ухода из жизни путем сложной «макиавеллевской» интриги – он отдал решение своей земной судьбы «высшему суду», это была попытка обновления жизненного пути решительным поступком. Таков подход к проблеме А. Битова в книге «Моление о чаше. Последний Пушкин».